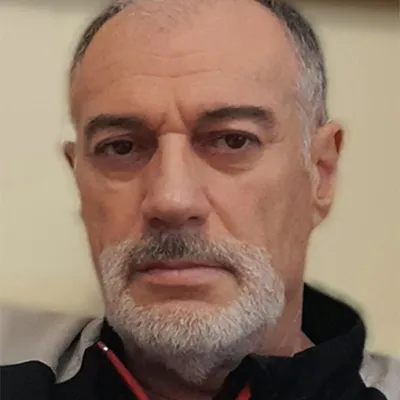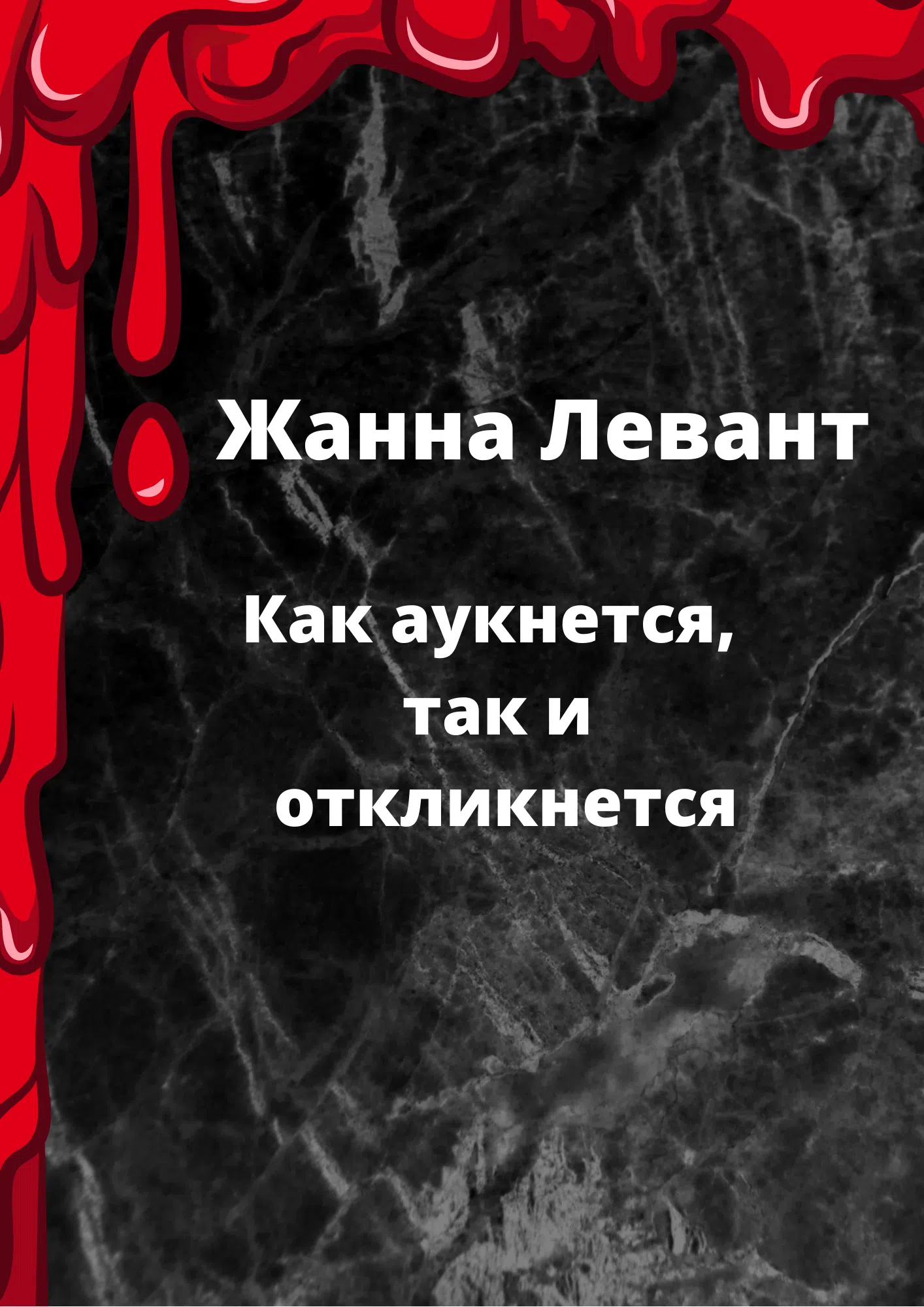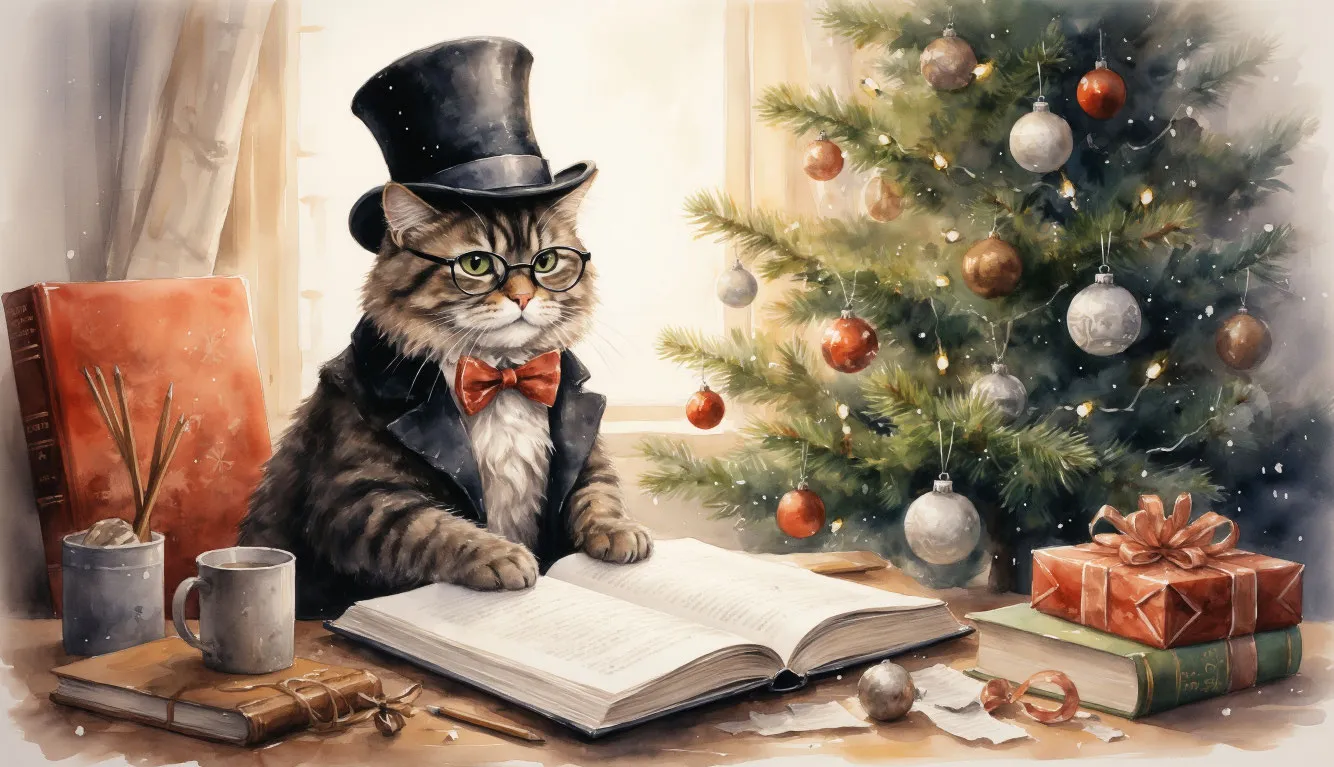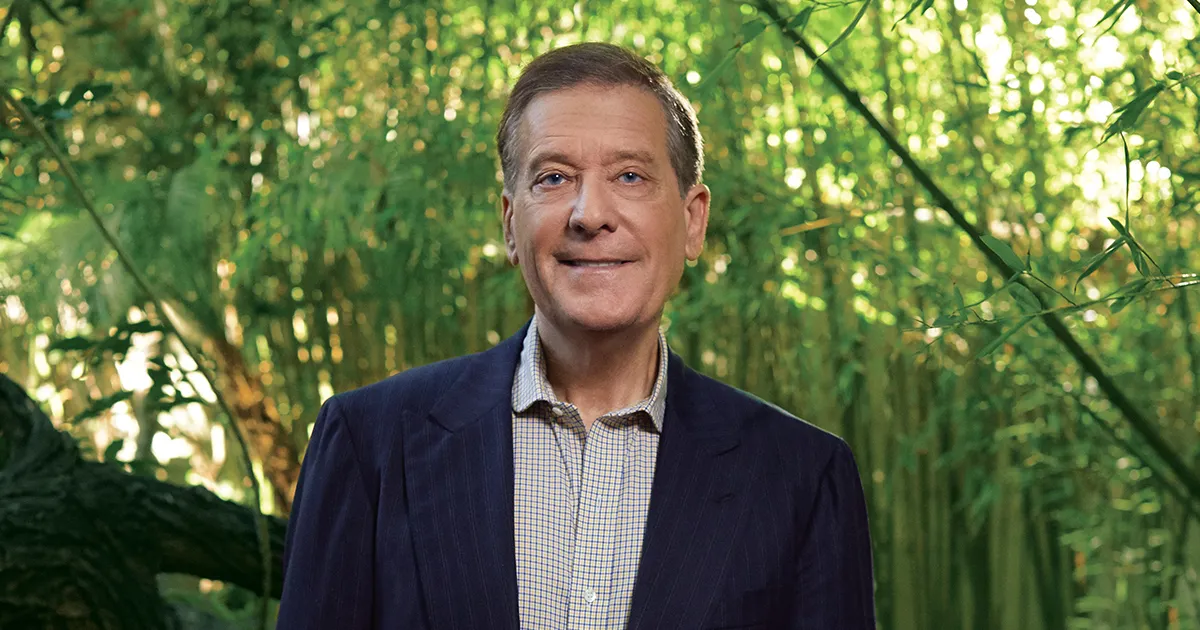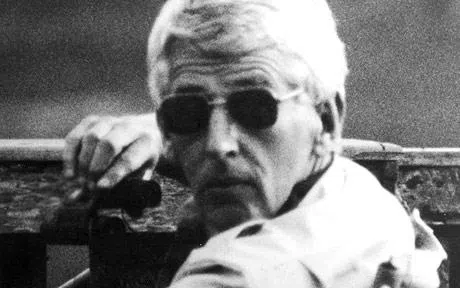Песня “Журавли”. Кто автор?

Тема сложная, но попробуем разобраться. Есть общепринятое мнение, что автором слов этой песни является Расул Гамзатов. Но так ли это ? Учитывая все перипетии появления советского бестселлера, однозначного ответа нет.
Как известно Гамзатов писал на аварском, а автором русского текста является Наум Гребнев. Вы обратили внимание, я не написал, он является автором перевода, на то у меня есть веские основания.
Неискушенным в переводческом деле читателям раскрою некую особенность этого процесса.
Согласно данным крупнейшего в мире каталога языков Ethnologue, в русском языке насчитывается порядка 500 тысяч слов. И он обладает определенными выразительными возможностями. А в аварском языке слов гораздо меньше, около 40 тысяч.
Исходя из данной диспропорции, когда на каждое аварское слово имеется в наличии более десятка русских слов, близких по смыслу, то переводить с аварского на русский, для профессиональных переводчиков, одно удовольствие. К тому же аварские поэты пользуются белым стихом, то есть пишут нерифмованные стихи, уделяют внимание только ритмике стиха. Не являлся исключением и Расул Гамзатов.
А теперь вопрос. Соответствуют ли оригиналу стихи Гамзатова переведенные на русский? Ответим словами самого “маэстро”. Однажды, он в пылу откровенности признался: «У меня были восхитительные переводчики. Они так переводили мои плохие стихи, что они тут же становились хорошими. Если бы не было этих переводчиков, меня бы никто, никогда не узнал». Или вот еще более откровенно: «Они меня переводят так, что потом, когда я перевожу стихотворение обратно на аварский, то получается совсем другое стихотворение – гораздо лучше, чем было у меня…»
То есть прославленный поэт соглашается с тем, что переводчики, по сути, пишут новые стихи на заданную тему, при этом изгаляются кто как может и его это устраивает.
А теперь о самой песне.
В 1965 году Гамзатов в составе советской делегации оказался в Японии, в городе Хиросиме. Там то и родилось это стихотворение.
Сложно сказать, что из себя представлял оригинальный текст. Как мы убедились, Гамзатов уже задним числом исправлял свои стихи, присваивая чужие строки, чужие мысли. Во всяком случае, Наум Гребнев перевел это стихотворение и оно было опубликовано в журнале «Новый мир» в 1968 году.
Вот оно:
Журавли
Мне кажется порою, что джигиты,
С кровавых не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
А превратились в белых журавлей.Они до сей поры с времён тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определённым строем,
Как по полям людьми они брели.Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?Летит, летит по небу клин усталый —
Мои друзья былые и родня.
И в их строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!Настанет день, и с журавлиной стаей
Я улечу за тридевять земель,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Вот тут- то и началась новая жизнь стихотворения, враз ставшего популярным. А оно осталось бы неизвестным не попади этот номер журнала в руки Марка Бернеса.
Марк Бернес болел раком легких и не тешил себя надеждой на выздоровление. Естественно, никакого настроения, он мужественно ожидал своей кончины. Но едва взглянув на стихотворение, Марк впился в журнал, как в спасательный круг, он увидел в этих строчках свою лебединую песню в прямом и переносном смысле.
Он не раздумывая созвонился с Расулом Гамзатовым и Наумом Гребневым. И начался мучительный процесс становления песни. Бернесу многое в тексте не нравилось. А потому он требовал, просил, угрожал, торопил. Он должен был успеть. В данном случае успех - это успеть !
Вдова Бернеса Лилия Михайловна вспоминала: «Эта песня рождалась в муках, и я помню яростные споры Марка с переводчиком, который не соглашался с тем, что его и Гамзатова надо переписывать». Поэт-песенник, автор 82 (!) книг Константин Ваншенкин вспоминал об отчаянном состоянии Бернеса, как тот жаловался ему в телефонном разговоре: «Сами джигиты эту песню петь не будут, они поют свои, джигитские песни, а для остальных это слово — бутафория. Речь идет о слове “джигиты” в первой строке: “ Мне кажется порою, что “джигиты”. По решительному требованию Бернеса появилось слово “солдаты”.
Далее последовали остальные замечания. Марка Наумовича уже было не остановить. В следующей строфе говорится: «Не потому ли с кличем журавлиным / От века речь аварская сходна?» «Но я же не по-аварски буду петь!» — он раздражённо кричит переводчику, чувствуя, что его не хотят понимать.
Несмотря на недоуменные взгляды автора с переводчиком, он продолжает свое продавливать:
Летит, летит по небу клин усталый —
Мои друзья былые и родня.
Какая еще родня! Возмущается он, - “Только тещи здесь не хватало!” Его требование авторы, прекратив сопротивление, безропотно выполняют и появляется строка:
«Летит в тумане на исходе дня…»
В третьей строчке он просит сделать не «в их строю», а «в том». Точнее. И, наконец, в последней строфе он тоже просит переделать — в частности, вместо строчки: «Я улечу за тридевять земель» появилась : «Я поплыву в такой же сизой мгле».
Таким образом, из оригинальных 24 строк осталось лишь 16. Перечитав заново текст и выразив свое удовлетворение Бернес, тот час же, звонит композитору Яну Абрамовичу Френкелю. У того музыка сложилась сразу и уже на другой день Бернес помчался к Френкелю домой. Послушал песню и… расплакался, хотя не слыл человеком сентиментальным.
Восьмого июля 1969 года Марк Бернес, преодолевая навалившуюся слабость, приехал в Дом радио и записал композицию с первого дубля, на второй дубль сил не хватило.
По воспоминанию звукоинженера Владимира Самойлова сотрудники центра звукозаписи понимали, что Марку Бернесу остались считанные дни… И действительно, через месяц с небольшим, шестнадцатого августа 1969 года, Марк Наумович Бернес скончался.
По моему твердому убеждению авторами текста являются трое: Марк Бернес, Наум Гребнев, а потом уже Расул Гамзатов.
А завершая статью, предлагаю вам мое воспоминание о краткой встрече с Расулом Гамзатовым, произошедшей пятьдесят пять лет тому назад в издательстве “Молодая гвардия”.
… Здание и внутри имело респектабельный вид: колонны, раскрашенные под мрамор, бронзовые люстры с канделябрами, на стенах – портреты корифеев современной литературы. Среди них, прямо напротив нас, – портрет живого классика аварской литературы Расула Гамзатова.
Вспомнилось, по Первой программе ТВ пару дней назад показывали о нем документальный фильм, и я решил поделиться своими впечатлениями. Стал соображать: с чего начать, как подступиться, как вклиниться в общий гвалт? Вдруг мои новые друзья замолкли и обернулись в сторону лестницы, ведущей с первого этажа на второй. К нам приближался не кто-нибудь, а сам Расул Гамзатович Гамзатов.
– Смотри, смотри! – зашушукались девушки и притихли.
В свою очередь, и он не мог не заметить длинноногих красавиц в коротких ярких юбках и, чтобы привлечь к себе внимание, проходя по коридору, остановился у своего портрета. Сделал удивленное лицо, якобы впервые увидел это фото, поправил рамку и, нарочито глубоко вздыхая и откровенно посматривая в нашу сторону, отправился дальше.
Мы же продолжали, затаив дыхание, рассматривать эту живую легенду. Долго смотрели вслед, пока его плотная, коренастая фигура не скрылась за поворотом.
Возобновился прерванный разговор. Одна из девушек достала из папки листок бумаги и прочитала свое новое стихотворение, в котором осуждала китайский ревизионизм (в то время сложились напряженные отношения с Китаем). Она посетовала на то, что никак не может найти рифму к названию газеты ЦК КП Китая «Жэньминь жибао». Подобно героям рассказа Чехова «Лошадиная фамилия», мы принялись шевелить губами, искать к этому слову подходящую рифму.
Минут через двадцать вернулся Расул Гамзатов и уже издали стал сверлить глазами нашу компанию. Мы все еще копались в сокровищнице русского языка, рифму искали. Я, недолго думая, вскочил с места и подошел к нему.
– Расул Гамзатович, вы не могли бы нам помочь? – на удивление спокойно, без волнения выпалил я и пригласил его в наш круг.
Он заулыбался, подтянул живот, подошел и уселся в предложенное ему кресло.
Будущие корифеи, оказавшись рядом с такой личностью, как в рот воды набрали. Во все глаза рассматривают его, не в силах и слова вымолвить. И полная тишина. Пришлось мне продолжить:
– У нашей поэтессы, – показал рукой на автора, – проблема с рифмой. Не может найти подходящую рифму к слову «Жэньминь жибао».
Гамзатов с удовольствием включился в игру и стал вместе с нами чуть слышно шевелить губами:
– Жэньминь – не жми, Жэньминь – не жми, Жибао – же бабу, Жибао – же бабу, Жэньминь Жибао – не жми же бабу, не жми же бабу, не жми же бабу, – проговорил он скороговоркой, а затем, одаривая студенток обворожительной улыбкой, обратился к поэтессе. – Ну как, подойдет?
Последовали аплодисменты и даже крики «Браво!». Расул Гамзатович, довольный удачной шуткой, встал, раскланялся и отправился своей дорогой.
 Разница между символом и метафорой: как понять и использовать
Разница между символом и метафорой: как понять и использовать
 Чайник
Чайник